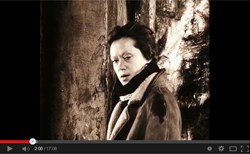Друга лучше у меня не было
«Огонек» родился в благословенное время, когда еще самолеты не запрудили небо, не существовали радио с телевидением, не было автомобильных пробок на улицах. СПИДА, героиновой наркомании, антибиотиков, синтетических тканей и хорошей анестезии. Новости передвигались со скоростью конной повозки — примерно восемь километров в час. Для того чтобы узнать, скажем, о происшедшем в Америке или Индии, приходилось ждать месяцами, впрочем, вкус к заокеанским новостям тогда еще не был всеобщим. Материки были гораздо более удалены друг от друга, и многие до сих пор полагают, что жизнь от этого не была хуже.
«Огонек» всегда являлся детищем своего времени. В его теплое название заложена ситуация, практически отсутствующая сегодня: вечером семья собиралась вокруг огонька — самой светлой лампы в доме, — и кто-то один читал что-нибудь вслух.
Всю свою жизнь «Огонек» старался рассказывать людям о чем-нибудь интересном, чего они еще не знают. Государства чередовались, в каждом из них писались заново учебники истории, вводились новые верования и даже государственно назначались святые с великомучениками, а «Огонек», пережевывая все эти новшества (с перерывами на усвоение), выходит уже 110 лет. Журнал вписался в судьбу государств, сменявшихся у нас в минувшем ХХ веке, запомнился многочисленными публикациями и судьбами людей, в «Огоньке» публиковавшихся и работавших.
Люди, с которыми я сотрудничал, составляют лишь один из кругов моего бытия. Были и другие, в том числе друзья, которые помогают, дисциплинируют, и не дай Бог опозориться, «потерять лицо» перед кем-то из них. Человеческий океан вокруг нас разнообразен, и я никогда не стремился, чтобы он разлился вокруг меня необъятно. Отбор окружения — одно из главных занятий всей жизни. Я, например, не тусовщик, говоря по-современному. Нечасто бываю на так называемых общественных мероприятиях, а в гости к себе домой никогда не зазываю больше четырех-пяти человек одновременно (пять — даже многовато). Я вполне самодостаточен, и, если уж начинаю в ком-то нуждаться, это серьезно. Это уже сделанный выбор.
В последнее время меня не раз смущала мысль, что мы очень уж понизили планку «хорошего человека»: не подличает в открытую, не ворует без меры — вот и ладно, сойдет. Поэтому, по меньшей мере, мне хочется, чтобы каждый сам калибровал окружающий мир, и при этом чем строже, тем лучше.
Живя в окружении множества людей, городов, домов, мы сортируем все это постоянно, и многое уходит — даже из памяти, потому что и памяти надо время от времени дать отдых. Листая сегодня мертвые записные книжки, вспоминая забытые адреса и умершие номера телефонов, я тоскую не по всем подряд. Но по Роберту Рождественскому я тоскую. Адрес его дома давно переменился, не только в том смысле, что Роберт сейчас не живет на свете, — квартиру он сдал в аренду еще при жизни и тут же съехал на дачу. Наше общее государство распалось на полтора десятка составляющих и сразу после развала, называясь уже по-новому, оприходовало все наши сберкассные накопления, а затем и перестало платить за многое, в том числе за стихи большинству поэтов.
Впрочем, Рождественского-то как раз издают, и он один из немногих, кто и сегодня мог бы жить на гонорары. Но все равно обидно, что Роберт уехал из центра Москвы на переделкинскую дачу. Столькие люди знали его московский адрес и телефоны, многие обращались к нему за помощью или запросто, без звонка, приходили в гости. Он для многих был надежной опорой и знаком надежды: мол, все еще устроится к лучшему.
ОН УМЕЛ СОЧУВСТВОВАТЬ ДАЖЕ ТЕМ, КТО ОТКРОВЕННО ЕГО НЕ ЛЮБИЛ
Роберт сдержанно принимал благодарности, но и сам умел благодарить — он запоминал тех, кто был к нему добр, потому что без таких людей просто не выжил бы. Что еще важно — Рождественский был напрочь лишен злорадства и умел сочувствовать даже тем, кто его откровенно не любил. Не знаю, все ли из тех, кто во множестве топтался вокруг Роберта, искренне любили его, но он доверял людям и трудно переживал каждое из разочарований.
«Роберт обладал чувством собственного достоинства, которое не перерастало в гордыню, и был прост без панибратства». Пародист Александр Иванов, Виталий Коротич и Роберт Рождественский на вечере «Огонька», 1988 год
Эти качества проросли сквозь его биографию, где было и сиротство, и бесприютность, как у многих детей нашего поколения, недополучивших в начале жизни внимания и любви. Я никогда не настаивал на том, что Рождественский являлся лучшим поэтом великой литературы. В поэзии, где были Пушкин, Тютчев, Блок, Ахматова, Мандельштам и Пастернак, все эти, как я говорю, «конно-спортивные классификации» («лучший рысак области», «лучший иноходец районо») кощунственны. Но я точно знаю, что друга лучше Роберта у меня не было.
Поговорив о потерянных и не забытых адресах, я начну этот рассказ с визитной карточки, которую обнаружил у себя в столе. Глянцевая карточка гласит, что владелец ее, доктор В. Копп, практикует в городе Мельбурне, Австралия, и к нему на прием можно записаться по такому-то телефону. Карточка лежит у меня среди бумаг все годы, прошедшие после ухода Роберта из жизни. Кажется, что попала она туда целую вечность тому назад.
В середине 90-х я все еще не мог оторваться от «Огонька» и рассказывал о своем редакторском опыте, преподавая целый курс журнального редактирования в Бостонском университете. Американских летних каникул мне всегда недоставало для дома, но в тот год я сократил их еще больше, потому что давно уже обещал слетать в Австралию, встретиться с тамошними журналистами и прочесть лекции в университетах. Поездку мне, некурящему, оплатила почему-то табачная фирма «Филипп Моррис», и мы с Робертом и нашими женами удивленно выпили по этому поводу у него на даче, прощаясь. Прощание было очень грустным — Рождественский болел, медленно приходя в себя после мучительной операции на мозге, сделанной ему в Париже. На коже головы у края волос виднелся шрам, оставшийся после трепанации черепа, — все лицо моего друга стало иным, усталым, с постоянным ощущением одолеваемой боли. Роберт и стихи стал писать чуть иначе, они мне очень нравились — он читал и читал их, а я думал о человеческом умении меняться в подробностях, сохраняя себя в главном, неизменно оставаясь самим собой. Что бы там ни было, а Рождественский был искренен, как всегда. И стихи его последнего периода — одни из лучших, по-моему, в современной русской литературе.
Он шутил про Австралию, вспоминал, как сам побывал там когда-то и тряс покалеченной головой. Она была у него огромная, самая большая из мне известных, 63-й или 64-й размер шапки (как-то мы купили себе шапки-ушанки в московском Столешниковом переулке, и продавцы благодарили нас, потому что долго не могли сбыть два эти огромных меховых колпака). Мы посмеивались, отхлебывая спиртное из стаканов, и рассуждали на все темы одновременно — о друзьях куда больше, чем о себе.
Роберт вдруг вспомнил, что обе его дочери родились под присмотром одного и того же московского акушера по фамилии Копп. Судя по всему, акушер этот перестал быть московским и жил сейчас где-то в стране кенгуру, вроде бы в Мельбурне. Начались поиски подарка («Я должен ему что-нибудь передать, человек очень хороший. Ты там поройся в телефонных книгах, поспрашивай — не мог же он раствориться в мировом пространстве. »). Подарок вскоре нашелся и был старательно упакован.
На следующий день я улетел в Лондон, а оттуда — в Австралию (такой билет мне соорудили табачные короли). По прибытии в Мельбурн начал искать и, к своему удивлению, обнаружил координаты доктора Владимира Коппа в первой же гостиничной телефонной книге. Вызвонил его, встретился, вручил подарок, выпил с ним по рюмке и взял у австралийско-московского акушера визитную карточку с адресом для Рождественских. Когда я возвратился к себе в гостиницу, позвонила моя жена и сказала, что Роберт только что умер. Так оно и сложилось, одно к другому, вплотную. Моя супруга присутствовала на похоронах, а я был где-то в другом полушарии, перезваниваясь с Переделкино и тоскуя. Жизнь не то чтобы опустела, но в ней стало намного пустыннее — Рождественский был одним из самых необходимых и самых близких мне людей.
Виталий Коротич и Евгений Евтушенко на вечере «Огонька» в Манеже, июнь 1987 года
С Робертом отношения у нас сложились лет 40 назад и сразу. Это важно подчеркнуть, потому что считается, что в обществе так называемых шестидесятников все дружили со всеми. Это не так, мы все были разные и остались такими. Вообще, отношения внутри человеческих групп достаточно сложны, а если эти группы искусственно сколачиваются многозначительными литературными балагурами, то тем более. Я не раз убеждался в этом, в частности, когда придумал сфотографировать для обложки «Огонька» группу, так сказать, поэтов-единомышленников, существующих в народном сознании не иначе как плечом к плечу. Оказалось, что и собрать их вместе — Андрея Вознесенского с Беллой Ахмадулиной, Булатом Окуджавой, Евгением Евтушенко и Робертом Рождественским — почти немыслимо, а выстроить для группового снимка еще труднее. Если вначале все они воспринимались как нечто единое, то со временем это единство стало воображаемым. Когда фото появилось на огоньковской обложке, на меня рухнул целый вал жалоб по поводу того, что стоят они не так, не в том порядке, а такого-то с таким-то там вообще нет. Один Роберт не жаловался, это он собирал всех для снимка, любил всех, сфотографированных вместе с ним, а также уважал тех, кто на снимке не поместился.
У Рождественского были качества, очень важные для оценки других людей и достаточно редкостные не только у наших сверстников — он никому не завидовал, был терпим, искренен и добр, причем проявлялось это в общении со многими людьми сразу.
Общаясь со многими, он пытался понять каждого, не ломал его под свои собственные критерии, отвергая все прочие, — всегда хотел выяснить «почему так?». Он был очень легок в общении и обладал феноменальным чувством юмора, помогавшим скрадывать многие жизненные проблемы. Он многое моментально переводил в юмор, и проблемы уменьшались на глазах. Роберт обладал чувством собственного достоинства, которое не перерастало в гордыню и самолюбование, как случалось не с одним из наших коллег после первых успехов, и был прост без панибратства. Это удивительно трудно, когда ты популярен и многие тебе завидуют.
Рождественский охотно общался с публикой разной, распахивая дверь знакомым и малознакомым, — казалось, что с перебором, едва ли не перед всеми подряд, но если приглядеться, бывало видно, что он строго держит дистанцию, когда это было нужно. Меня это какое-то время даже напрягало — дверь нараспашку, кто-то поет, кто-то читает стихи, кто-то рассказывает анекдоты, и такое непрерывное народное гуляние могло длиться сутками. Только со временем я понял, что в подобном броуновском движении было много порядка, а в суете шел отбор, приправленный расслабленными беседами и табачным дымом.
Главным предметом сервировки в доме бывали пепельницы — я никогда не видел, чтобы люди выкуривали столько, сколько могли извести сигарет Роберт с Аллой. Они были похожи на героя известного фельетона Арта Бухвальда, который оживал на природе только после того, как немного подышал из выхлопной трубы. Рождественские были единственными, кому я разрешал курить у себя дома, так как они просто не были способны общаться в ненакуренном помещении. Я сошел бы с ума от такой жизни, но для Роберта с Аллой подобная атмосфера была и привычна, и необходима.
«Я — ПУФ-ПУФ! — ЕВТУШЕНКО!» — СКАЗАЛ ЖЕНЯ И ОБИДЕЛСЯ. «А Я ЕГО ОХРАНЯЮ!» — ОТВЕТИЛ РОБЕРТ И РАССМЕЯЛСЯ»
Умение принимать и выслушивать всех подряд уникально, я никогда так не умел, подолгу обнюхивал и сортировал людей, прежде чем допускал их в дом. У Рождественских же все происходило в обратном порядке — люди вначале приходили к ним, что-то выдумывали, обсуждали, фантазировали, бренчали на фортепьяно, пили чай, водку, ели, беседовали, разглядывали картины на стенах, а затем уже понемногу сортировались и после этого кого-то забывали надолго, а кого-то звали вновь. Во всей такой свистопляске мы с Робертом очень быстро поняли друг друга и, что называется, притерлись. С ним можно было пить, можно было разговаривать в трезвом виде, можно было вообще не видеться месяцами, но все равно оставалось ощущение непрерывного общения, ставшее важной составляющей всей моей жизни.
Мы вышучивали общих друзей и самих себя. Рождественский никогда не раздувался от самомнения, и зачастую это шло вразрез с духом времени. Он приучил к этому своему поведению многих, так ему было легче.
Одной из любимых историй молодого Роберта был рассказ о том, как в начале 60-х их с Евгением Евтушенко отловили телевизионщики в вестибюле ЦДРИ, знаменитого Центрального дома работников искусств. Лица еще не примелькались, и поэтому оператор спросил строго: «А вы кто такие, молодые люди?». — «Я — пуф-пуф! — Евтушенко!» — сказал Женя и обиделся. «А я его охраняю!» — серьезно ответил Роберт, хлопнул себя по левой подмышке и рассмеялся. Он очень любил этот случай за его характерность. Дело в том, что Евтушенко, умный, талантливый человек, прекрасный поэт, которого мы оба любили, часто пребывал в непрерывном, подчас изнурительном процессе самоутверждения. Для Роберта проблемы самоутверждения вообще не было — он жил легко и естественно, дорожа своей внутренней свободой. И не надо было даже пытаться столкнуть его с этой позиции.
Рождественский любил общаться с людьми, разговаривал с кем угодно о самом разном, но часто сбивал пафосные темы на бытовой уровень (он не любил политической болтовни, считая, что человек может выстраивать взыскательные отношения с государством не только рассказывая анекдоты про власть). Я ценил в нем и то, что, состоя в необъятном количестве разных общественных организаций, правлений, президиумов и секретариатов, Роберт умел не влипать в суету и грязь, окружающую многие из подобных контор.
То, что я никогда не подписал ни одного из так называемых «коллективных писем», направляющих и поправляющих людей, если те, по мнению государства, шли «не туда», было делом принципа. Я считал и считаю — и Рождественский разделял эту мысль, — что человек может отстаивать любые убеждения, но при этом должен быть готов к последствиям того, что эти убеждения могут конфликтовать с чьими-то, в том числе начальственными. «Прежний «Огонек» постоянно кого-то исправлял, кого-то обличал и на кого-то доносил. Этот стиль из журнала был вычищен напрочь — я не опубликовал в «Огоньке» ни единого из так называемых «открытых писем» (кроме одного — «Открытого письма Федора Раскольникова Иосифу Сталину», но это совсем другая история).
Если Роберт и не принимал чего-то активно, то прежде всего хамства во всех модификациях. Помню, как мы в Париже выступали с чтением (и пением) своих стихов (я читал по-украински). Компания подобралась замечательная — Константин Симонов, Булат Окуджава, Олжас Сулейменов, Евгений Евтушенко, Владимир Высоцкий, Роберт Рождественский.
В один из свободных часов Роберт, я и Олжас пошли купить чего-нибудь поесть-выпить и тащили приобретенное к себе в гостиницу в бумажных супермаркетских пакетах. Моросил дождик, и пакеты, конечно, размокли. Уже у самой площади Республики, где мы жили, на середине проезжей части широкого бульвара наши пакеты развалились одновременно, раскатав по асфальту все банки-склянки-бутылки. Неудержимый вал парижских автомобилей немедленно затормозил, уткнувшись в неведомых им поэтов, стоящих на четвереньках. Несколько французских автовладельцев опустились рядом с нами на проезжую часть, помогая собрать покупки. Никто нас не обругал, никто не сигналил возмущенно над головами. Посуетившись, мы общими усилиями собрали покупки в большой пластиковый пакет, сыскавшийся у кого-то из водителей, Роберт выпрямился и грустно вздохнул: «Так скучно без жлобских комментариев. Почему нас никто не выматерил? Где их жлобы? Наверное, к нам уехали, выучили русский и слились в экстазе с единомышленниками».
За кажущейся легкостью и — порой — дурашливостью, умением весело отшутиться в Рождественском жила душа болящая и сочувственная. Он нечасто говорил о себе, но всегда был в курсе дел очень многих. Любил помогать, ходатайствовать, выпрашивать у начальства все, что нужно друзьям и добрым знакомым, иногда сам делал это, без просьб.