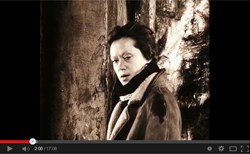Еще столького не договоривший….
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 1932, село Косиха, на Алтае – 1994, поселок Переделкино, под Москвой
Недавно позвонила мне бойкая тележурналистка и деловито защебетала:
– Евгений Александрович, вы помните, что Роберту Рождественскому в этом июне исполняется 80 лет?
– Исполнилось бы. – грустно поправил я.
– Да-да, – продолжала она щебетать. – Так вот, один вопросик: у вас была дружба или соперничество? Только по-честному.
Это совсем ребяческое «только по-честному» меня несколько тронуло, да только еще больше угрустнило и даже задело бестактным вмешательством в живую жизнь, так опримитивленную и низведенную до пошлятины на страницах второсортных гламурно-сплетневых журналов. Уж слишком легко и упрощенно эта щебетушечка толкала меня на это «или – или», когда в жизни всё гораздо сложней. Она понятия не имела, что шестидесятничество на том и стояло, что мы даже больше чем дружили, – мы с неразделимой родственностью любили друг друга, а мало ли как иногда запальчиво и обидчиво могут спорить люди именно любящие друг друга. Все-таки мы были детьми войны, знали, как это страшно, когда ты задираешься с кем-то по пустякам во дворе, а рядом взрыв, и тот, кто только что спорил с тобой и замахнулся на тебя, вдруг, не додержав замаха, как будто руку налило свинцом, начинал колыхаться, цепляться за тебя, слабеть и падать… падать… и тень предсмертной извинительности пробегала по его стремительно бледнеющему лицу. Ты тормошил его, а он уже был далеко и уходил всё дальше и дальше, откуда его не вернешь. И вместе с жизнью из него уходила возможность выговориться, попросить прощения за то, что он был в чем-то виноват перед нами, а у нас – возможность попросить прощения за то, в чем мы были виноваты перед ним. Его больше не оставалось на земле – оставалось только то, что он успел сказать. «А он cмолчал. Не встал. Не рассмеялся. Игра кончалась. Начиналась жизнь», – точнейше написал Володя Соколов, родоначальник стихов о войне, увиденной нашими детскими глазами.
Как же мы познакомились с Робертом? Как и когда вообще забраживало шестидесятничество?
Я издал свою очень плохую, хотя и лихо зарифмованную первую книжку «Разведчики грядущего», став в 19 лет членом Союза советских писателей, и безо всякого аттестата зрелости 1 сентября 1952 года полу-полноправно вошел с гордо задранным носом в Литинститут, откуда меня, впрочем, выперли за защиту романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Но Литинституту я благодарен на всю жизнь.
На институтской лестнице стоял как главный проверяла по поэзии не то что с недоброжелательной, но с довольно скептической ухмылочкой волейбольно - баскетбольного роста парень с чуть вывернутыми негритянскими губами и лицом, обсыпанным щедрой россыпью родинок. Как потом оказалось, он действительно играл в волейбол за сборную Петрозаводского университета, а в Литинституте нам удалось вместе поиграть и в баскетбол, когда из-за недоступности настоящей экипировки разрешалось выходить на площадку в сатиновых неспортивных трусах, без маек. Но он выделялся своими спортивными шортами с каемочкой и был всегда при номерной майке. И, надо сказать, в нем было какое-то врожденное капитанство.
У него, как и у меня, вышла к тому времени единственная и тоже не самая удачная книжка «Флаги весны», и лестничная самоуверенность еще не была подкреплена мощью «маяковских лесенок», которые были редкостью у тогдашних поэтов, за исключением лефовских ветеранов Николая Асеева, Семена Кирсанова и неожиданно запрыгнувшего в поэзию из ниоткуда милого журналистика Георгия Горностаева, крошечным ростом и почти детскими ботиночками совершенно не соразмерного с гиперболами Владимира Маяковского.
Проверяя меня «на вшивость», то есть на «заслуженность» или «незаслуженность» считаться своим, Роберт испытующе пробасил сразу узнанное мной борисо-корниловское, однако без упоминания запрещенного имени автора:
От Махачкалы до Баку
луны плавают на боку.
Ему не пришлось долго ждать. Я не растерялся – не на таковского напал! – и подхватил:
Я стою себе, успокоясь,
я насмешливо щурю глаз…
Он удивленно, но уважительно показал мне большой палец и повел стих дальше, выжидая, когда я все-таки споткнусь:
мне Каспийское море по пояс.
А я лихо, как будто в чехарде, перепрыгнул через следующую строчку:
нипочем. Уверяю вас.
Мой соперник (да, да, дорогая телевизионочка, было соперничество, было, только не такое, как вам кажется) уложил следуюшую строку, словно в баскетбольную корзину:
Нас не так на земле качало.
А мне только этого и надо было. Я перехватил у него следующую строку, как мяч над волейбольной сеткой, полновесной ладонью влепил его в угол площадки между его растопыренных рук:
нас мотало кругом во мгле –
качка в море берет начало.
И тут подскочил слегка подвыпивший розовощеконький, как амурчик, его петрозаводский кореш Володя Морозов и шарахнул, как в оркестровые тарелки, в два учебника: один, кажется, по логике Асмуса, а другой, дай Бог памяти, что-то по средневековью (а вообще-то потом я не слишком часто видел учебники в его руках):
а бесчинствует на земле.
И вдруг вся лестница, включая меня, мощно загудела хором, отбивая ритм кулаками по перилам и перекатывая голосами строки, как волны Волги, не забывшей Стеньку Разина:
Нас качало в казачьих седлах,
только стыла по жилам кровь,
мы любили девчонок подлых –
нас укачивала любовь.
Я уже был лестницей, а она – мной.
Волейболо-баскетболист протянул мне свою лапищу:
– Р-р-оба. Р-рождественский. Но не из служителей культа. А ты кто?
– А я – Евтушенко. Женя.
– Ага, п-питомец «Сов. спорта». Ч-ч-итал, читал… Специалист по американской б-б-езработице? Как это у тебя там? – и процитировал на память довольно иронически, стиль у него был такой: – «В Америке жизнь перестала быть ценной. / Нищий грязью обляпан, / и только капли дождя, как центы, / падают с неба в шляпу. »
Я тогда обратил внимание, что когда он читал стихи, то заикание почти проходило.
– Приятно видеть образованного человека… – огрызнулся я.
Боясь, что сейчас может возникнуть напряженка, впрыгнул между нами совсем-совсем юный студент, еще с пушком на щеках, у которого до сих пор он, по-моему, и золотится, хотя недавно ему стукнуло восемь десятков, и дружески тряханул мою руку:
– А я Леня Жуховицкий.
И – к Роберту:
– Роба, у него же есть потрясный по аллитерациям стих о Манолисе Глезосе, ну о том греке, который сорвал фашистский флаг с Акрополя: «Ровесник, ты помнишь со школьной парты, / слова из учебника в сердце ты врезал. / Ночами не спал ты над картою Спарты / и вместе со мною о Греции грезил…» Чувствуешь, как «р» играет, а?
– Да ты у нас г-готовый м-международник, оказывается. Эр-ренбург из Ор-ренбурга, – примирительно сказал мне Роба. – Ну что же, мамы разные нужны, мамы всякие важны…
– Я Эренбург почти из Оренбурга: со станции Зима, – задиристо отпарировал я.
– Ух, ты. а р-разве она существует? Я д-думал ее К-кедрин для красоты выдумал: «Говорят, что есть в глухой Сибири Маленькая станция Зима. Там сугробы метра в три-четыре Заметают низкие дома». Знаешь?
– Это – нет, – сказал я. – А вот «Как побил государь / Золотую Орду под Казанью…» помню.
И опять вся лестница загудела, как будто над ней колокола загремели реквием по всем убиенным на Руси мастерам:
«Соколиные очи / Кололи им шилом железным, / Дабы белого света / Увидеть они не могли. / И клеймили клеймом, / Их секли батогами, болезных, / И кидали их, / Темных, / На стылое лоно земли».
Когда я повторяю сейчас эти строки Дмитрия Кедрина, выброшенного чьей-то мстительной рукой из летящей подмосковной электрички, то слышу и голос Андрея Вознесенского, читающего еще ломающимся юным голосом своих ошеломивших нас «Мастеров», вижу пророческие образы гениального фильма «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, которые каждый год потрясают моих студентов в университете города Талса (Оклахома), да и вообще всех студентов во всех киношколах мира.
Ничто на свете не рождается из ничего. Так мы, шестидесятники, были предвидены выколотыми глазами кедринских иконописцев и строителей храмов. В такие сны наяву я верю. Безумцы, навевающие человечеству золотые сны, только усыпляют нас и умерщвляют всё живое. Можно верить, но только не снам безумцев, а рукотворным снам, воплощаемым мастерами.
И сквозь стихи Кедрина я услышал тогда на лестнице голос Робы:
– А вообще ты по по-поэзии испытание прошел. Значит, свой, а, ребята?
И вся лестница подтвердила:
– Свой! Свой!
Так мы встретились. Я был принят в свои, что означало: дело знает. Это была тогдашняя особая литинститутская «проверка на лестницах». У нас даже некоторые преподаватели примерно так вели себя, хотя это было рискованно. Всегда пригалстучный, отутюженный, профессор Павел Новицкий, с бушующим клоком седого прибоя Невы над мраморным львиным лбом Серебряного века, когда по ее брегам прогуливались еще не расстрелянный Николай Гумилев и еще не разоблаченная Анна Ахматова, с упоением декламировал, закатывая глаза, как глухарь во время любовной арии:
– Итак, почитаем эту Ахматову, полублудницу, полумонахиню, как ее справедливо заклеймил товарищ Жданов в своем незабываемом докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград». Кстати, вот вы, Рождественский, надеюсь, читали этот доклад?
– Так т-т-очно, Пал Иваныч, – с преувеличенной расторопностью вытягивал Роберт ноги из-под школярского стола, еле там помещавшиеся. – Я д-даже по заданию комсомольской организации д-д-доклад делал еще в шк-коле о д-данном докладе. – И, подмигивая нам, добавлял: – П-почти весь его наизусть п-помню. Хотите д-докажу?
– Не надо, – испуганно отдернулся от него Новицкий, пока мы, прикрывая ладонями рты, давились хохотом. – Пять, Рождественский, пять за готовность к цитатам. Ценю вашу гражданскую редкую памятливость, ценю, но утихомирьтесь. Давайте-ка послушаем, как эта разложившаяся декадентка (слово это он произносил, сладко зажмурившись), надо отдать ей должное, мастерски занималась идеализацией чуждого нам, – профессор, наслушавшись заиканий Роберта, и сам застрял на звуке «б», – чуждого нам б-б-буржуазного образа ж-ж-ж…
Роберт поддержал его басом:
– ж-ж-изни, Пал Ваныч.
И профессор впал в транс, почти полузапев и явно наслаждаясь каждым слогом:
Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.
– Устриц хотца, Пал Ваныч, устриц, – аж застонал Володя Морозов. – Хоть немножко буржуазного образа жизни. Врагов надо изуча-ать!
А Павел Иванович, млея от декламации, шутливо погрозил ему пальцем и продолжил таять, как бы растворяясь…
Нас не случайно тянуло к стихам прорабатываемых поэтов, и особенно – погибших в сталинское время. Почти в каждой семье кто-то был убит на войне и кто-то был во врагах народа, или уничтоженных, или сидевших за лагерной колючкой.
Совсем недавно я впервые прочел в Интернете простое-простое, но такое щемящее стихотворение Роберта «Отец и сын», которое мне почему-то напомнило песню «Враги сожгли родную хату» на музыку Матвея Блантера и стихи Михаила Исаковского.
Бывает, песни не поются
ни наяву и ни во сне.
Устав над памятью грустить,