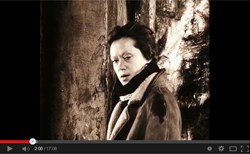История советской литературы
М. М. Голубков, рассматривая советскую литературу в соотнесении с русской литературой XIX века, показывает, что в 20-30-е годы происходил все более заметный разрыв связей с художественными традициями прошлого. При этом ученый совершенно справедливо отмечает нормативность характеров и обстоятельств в литературе соцреализма — черту, которая, по его мнению, сближает последнюю с русской литературой XVIII века. (Мысль эта не раз высказывалась и другими исследователями, но именно в книге М. М. Голубкова она аргументируется весьма основательно). И вот здесь-то возникает вопрос: почему советская литература в XX веке оказывается по своей природе близкой даже не литературе XIX века, а литературе далекого от нее XVIII века? Близкой именно сущностью своей природы, ибо нормативность — это не третьестепенная характеристика литературы, это способ художественного обобщения, т. е. то, в чем концентрируются свойственные данной эпохе концепция человека и концепция мира — ни больше ни меньше. Как же могло случиться так, что спустя столетие после смерти Пушкина писатели вновь начали видеть и понимать мир и человека так, как виделись они и понимались литераторами екатерининского времени? Ответы на эти вопросы в книге М. М. Голубкова не даются.
По-иному проблема связи советской литературы с литературой и культурой предшествующих эпох поставлена в книге Е. А. Добренко. Нужно сразу сказать, что в качестве самостоятельной эта проблема здесь не рассматривается. Автор для себя уже решил ее, и множество его замечаний и суждений позволяет понять, как видится она ему. И в книге Е. А. Добренко называются и характеризуются некоторые черты советской литературы, роднящие ее с литературой риторической эпохи (например, каноничность, сведение героя к роли, отсутствие художественной условности). Но автора больше привлекает обнаружение в культурном сознании советской эпохи “микроэлементов” мифологического мышления — мифологем, свойственных культурному сознанию далекой эпохи архаики. Это стремление отразилось даже в названиях некоторых глав книги: четвертая глава называется “Стой! Кто идет?! Становление манихейского мифа советской литературы”, шестая — “Свет над землей. Манихейский миф литературы позднего сталинизма”. Напомню читателю, что манихейство — это религиозно-философское учение, основоположником которого был перс из Вавилонии по имени Мани, живший в III веке. Доктрина, в которой соединились элементы зороастризма, буддизма и христианства, постепенно распространилась в ареале от Северной Африки до Китая, подвергаясь при этом в поздней Римской империи и Византии преследованиям со стороны государства и христианской церкви. Оснований считать, что манихейство оказало сколько-нибудь заметное влияние на средневековую русскую культуру, крайне мало. Еще меньше оснований считать, что манихейство оказало какое-либо воздействие на русскую культуру советской эпохи. Как же связаны манихейство и советская литература в книге Е. А. Добренко? Связаны они метафорически. Дело, во-первых, в том, что в основе манихейского описания модели мира лежат оппозиции “свет — тьма”, “добро — зло”, “истина — ложь” и т. п. Во-вторых, в советской литературе предвоенного времени, а также времен Отечественной войны и “холодной” войны, в литературе, характеризовавшейся откровенной агитационностью, все советское непременно связывалось с понятиями добра, света, истины и противопоставлялось всему западному, олицетворявшему собой зло, мрак, ложь. Никакого отношения к манихейству все происходившее в советской литературе сталинской эпохи, конечно же, не имело. Но метафорическое “сопряжение далековатых идей” породило эффектный подзаголовок о “манихейском мифе советской литературы”.
Пример с манихейством весьма характерен для методологии Е. А. Добренко. Он настойчиво выискивает в литературе сталинской эпохи все, что подтверждает привлекательную для него идею мифологичности культурного сознания этого времени. Выявление той или иной архаичной мифологемы в мышлении советского человека сопровождается цитированием работ авторитетных теоретиков мифологии. Все это было бы вполне солидно и убедительно, если бы автор “Метафоры власти” хотя бы раз попытался объяснить феномен мифологичности советского культурного сознания, объяснить, почему советский человек в середине XX века мыслил теми же категориями, какими мыслил древний грек, египтянин или шумер. Без этого все такого рода наблюдения и суждения (почему-то ставшие модными в современном литературоведении) оказываются не более, чем метафорами, которые в науке, как известно, власти не имеют. К сожалению, книге, посвященной историческому освещению литературы сталинской эпохи, парадоксально не хватило именно историзма.
Как видим, даже в лучших работах последнего времени важнейший вопрос о связи и соотношении русской советской литературы с русской литературой и культурой разных времен дореволюционной истории остается не то что нерешенным, но не рассмотренным. Без этого же, как мне представляется, едва ли возможно по-настоящему глубокое постижение природы советской литературы и закономерностей ее развития. Разумеется, не всякое решение этого вопроса приведет нас к такому постижению, но чтобы прийти к нему, нужно отваживаться на решение, если оно кажется тебе верным.
В чем мне видится специфика развития советской культуры и литературы? По моему глубокому убеждению, в истории советской культуры отчетливо просматриваются два этапа: от Октябрьской революции 1917 г. до XX-го съезда КПСС (февраль 1956 г.), ознаменовавшего начало “хрущевской оттепели”, и от XX съезда КПСС до распада СССР в 1991 г. Если главной тенденцией развития советской культуры на первом из этих этапов был возврат к риторическому культурному мышлению, то второй этап характеризовался противоположной тенденцией — уходом от риторического культурного мышления, точнее — переходом от него к эстетическому и постэстетическому. Таким образом, развитие советской культуры, искусства, литературы можно изобразить в виде параболы: стремительное движение вспять (от постэстетической художественной культуры к религиозно-риторической культуре), остановка, резкий поворот и далее — столь же стремительный возврат (от религиозно-риторической культуры к постэстетической).
Это утверждение кому-то из читателей может показаться странным и субъективным. Посему замечу, что эта мысль в разных интерпретациях издавна и не столь уж редко встречается в научной литературе. И. П. Смирнов в связи с этим заметил: “Уже при первой попытке подойти к социалистическому реализму культурологически советская литература 1930-50-х гг. была оценена как диахронически неоригинальная — как возвращение к XVIII в.: “Мы пришли к классицизму”, — уверял А. Д. Синявский в статье, положившей начало теоретическому моделированию сталинистского искусства” . Высказывания такого рода можно встретить даже и в работах, публиковавшихся в СССР в период брежневского “застоя”. Так, например, в изданной в 1983 году академической “Истории русской советской поэзии. 1917-1941” проф. В. В. Бузник отмечала: “Анализ ранней советской поэзии наводит на мысль о существовании знаменательных в этой связи аналогий. За первое пятилетие своей истории молодая поэзия Октября в необычайно сжатом и, конечно же, по-своему трансформированном виде словно бы повторила путь гуманистических исканий, пройденных русской классической поэзией допушкинской поры — от Ломоносова, Державина и до Сумарокова”2. К сожалению, В. В. Бузник не говорит о том, как долго советская поэзия проходила следующий отрезок пути — от Сумарокова до Пушкина; не сказано ею и о том, как и почему случилось так, что русская поэзия вновь оказалась на ломоносовском этапе своего развития. Много неясного в этом и подобных ему высказываниях. Но уже само их наличие симптоматично.
То, что на втором этапе советская культура и литература развивались, переходя из риторического состояния в эстетическое и — далее — в постэстетическое, не столь уж удивительно, ибо это естественный эволюционный путь развития. Гораздо удивительнее другое: как русская культура в советский период могла стать риторической. Как после столетнего господства эстетического типа художественного сознания, после перехода к постэстетическому типу можно было вновь вернуться в риторическое состояние? Как из эпохи индивидуальности можно было вновь вернуться в доиндивидуалистическую эпоху, к “человеку риторическому”? Неужели такой возврат вообще был возможен? Если да, то что сделало его возможным? Эти вопросы тем более настоятельно требуют ответа, что, согласно нашей концепции, риторическая культура оживает в советскую эпоху не столько даже в своем светском варианте, сколько в религиозном. Отсюда следует, что культура советской эпохи типологически сходна с культурой эпохи Средневековья.
Фантастично? Нет. Фантастичной эта концепция может показаться лишь тому, кто знает русскую историю только в том искаженном, мифологизированном виде, в каком она издавна подавалась в учебной и даже научной литературе. Тем, кто знал русскую историю в ее подлинности, эта концепция не показалась бы странной. Она, собственно, и построена на идеях, авторы которых — такие крупные русские мыслители, как В. О. Ключевский и В. С. Соловьев, Г. Г. Шпет и Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков и Л. Н. Гумилев, ряд других, чьими именами ныне снова может гордиться русская культура.
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300